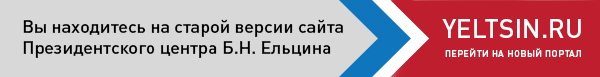Знаковая система
Это был в полном смысле этого слова культурный шок, нонсенс, удар по мозгам. То, что случилось в тот день на Красной площади. Сейчас, после того, как на ней за 20 лет прошедших лет уже постоял каток, поиграли баскетболисты, попели теноры, да вообще много чего было – Красная площадь, и уж тем более Васильевский спуск, уже давно воспринимается нами просто как одна из культурных «площадок». А тогда, в 91-м, все было совершенно иначе. И ведь это был не просто показ мод. Свою новую коллекцию из Франции привез знаменитый Пьер Карден.
Вот как описывает на первой странице «Московских новостей» 7 июля 1991-го года это событие знаменитый (и тогда, и сейчас) русский писатель Александр Кабаков:
«Красная – значит красивая. Мы давно забыли этот первоначальный смысл названия центральной столичной площади. За годы, когда она была определена для грохочущих парадов, официальных похорон и очередей, все привыкли связывать ее с цветом пролетарского знамени. Красный – красивый, прекрасный, прекрасивейший… Мы помним лишь угрюмую торжественность, строевой шаг, марши, дымный танковый выхлоп, ровный ряд серых шляп и военных фуражек на главной трибуне».
Замечание в скобках к этой цитате – тогда, в июле 91-го, смелый Кабаков ни словом не упоминает мавзолей. Ни словом вообще. Поэтому загадочные «очереди» в тексте так и остаются без разъяснения, да и «главная трибуна» звучит, согласитесь, немного общо. Все знают, что это за трибуна. И что это за очереди – к кому.
Однако важно не это.
Сейчас, через 20 лет, пафос освобождения, который звучит в комментарии Кабакова, мы можем пропустить сквозь фильтр времени. На Васильевском спуске с тех пор много было и митингов, и концертов, и далеко не все из них хочется вспоминать. Красная площадь – да, конечно, уникальное по красоте архитектуры место, потрясающий культурный ансамбль, и там действительно всегда хотелось увидеть и услышать что-нибудь красивое, но…
Ростропович и Маккартни – да, конечно, помним, ну а все остальное? Все эти катки и забеги? Некоторый священный трепет, который всегда внушала эта площадь, теперь уже вызывает намного меньше вопросов, вспоминается с теплотой. Да, площадь была всегда пуста и тиха, кроме торжественных дней, ну и что в этом плохого? Да, серые шляпы и военные парады два раза в год напоминали всей стране, что государство – вот оно, живое, перед вами, а где было его еще увидеть, разглядеть в лицах? Как хоть они на самом деле выглядят, эти загадочные члены Политбюро?
И тем не менее, слегка морщась от пафоса 91-го, еще такого молодого и свежего , мы должны четко выделить главное: в стране менялась знаковая система.
В этом, как ни странно, я вижу одну из главных причин победы демократов в 91-93-м годах.
Сейчас много говорят и пишут о том, что главной силой августовских (и предшествующих им) событий была уличная стихия, митинги, демонстрации, которые были спровоцированы острым экономическим кризисом. В магазине, мол, нечего было купить. И народ пошел протестовать. Но это слабая, недостаточная логика. Таких «снабженческих» кризисов было в нашей истории после 17-го года довольно много, но вышел народ на улицы один-единственный раз за 70 лет. В том 91-м году.
Удерживала его – и от протеста, и от борьбы за свои права, и от любой активности вообще – не просто самым жестоким образом вбитый в него страх, и не просто почтение к начальству, это тоже слишком легкое объяснение – а именно отсутствие другой знаковой системы.
Кабаков немножко, по касательной тут по этой теме проходится: «танковый выхлоп», «серые шляпы», «красное знамя», «угрюмая торжественность», «военные парады». Это же все не просто так. Система этих знаков – сакральность всего военного, мифологическая основа политического языка, анонимность власти - в целом формировала представление о человеке. Сейчас мы вспоминаем о том, как этот советский человек был скромен, вежлив, цивилизован, как служил делу и любил все высокое. Но если разбираться всерьез, то это представление было дикоархаичным, ну как минимум средневековым: советская «церковь» требовала от него соблюдения такого количества норм и правил, гражданских молитв и обрядов, и любое отступление от них так жестко карала, что о свободе выбора, личной воле, и личной ответственности мы довольно часто забывали совсем.

«Бессмысленно описывать словами то, что было на подиуме… Но не в обиду гениальному портному будь сказано, больше всего запомнилось то, что было вокруг. Воздушные шары и аэростаты с рекламными надписями – первые летательные аппараты над этой площадью после рустовского самолетика. Люди, усеявшие откос до самой кремлевской стены. Сам гигантский помост, выросший рядом с Василием Блаженным. Храм, византийские многоцветные луковки которого на фоне темного неба неожиданно совпали с цветами летящих над эстрадой платьев. И в конце концов – фейерверк! Это ж надо себе представить: не в честь государственных торжеств, а в честь иноземного художника рвались и рассыпались над Москвой-рекой белые, желтые, розовые искры…».
И опять же, можно посмеяться, ухмыльнуться – ну что за пафос, что за смешной детский восторг – подумаешь, эка невидаль, шары с рекламой, фейерверк.
Но фейерверк на Красной площади – это только салют! А если не салют, тогда что? И толпа людей на Красной площади – это только праздничная демонстрация трудящихся. А если не демонстрация – тогда что? Невозможен в старом советском языке просто фейерверк, и просто толпа, прижавшаяся к кремлевской стене. И уж, конечно, невозможно в ней такое внимание и почтение к моде. К одежде. К женскому телу. К женской красоте. Обратите внимание – Кабаков говорит о самом главном – о моделях, о девушках-манекенщицах, о стиле моды очень скупо… да почти ничего не говорит. Этих тем еще просто нет в публичном языке журналиста.
Но они уже появляются.
Так вот, когда мы с вами думаем о событиях 1991-го, эту тему просто невозможно оставить в стороне. Да, люди, народ, масса – были очень политизированы в это время. Да, они ждали, просили, требовали перемен, подстегиваемые нуждой. Да, только что появившаяся публичная и открытая политика их гипнотизировала, ошеломляла, выводила на улицы. Но дело ж не только в этом. В самом воздухе времени – во всех этих показах мод на Красной площади, рок-фестивалях, новом языке писателей, новом поведении телеведущих – люди увидели что-то такое, от чего уже невозможно было отказаться.
Обычно это называют свободой, но я бы обозначил шире – это в философском смысле было (извините за повтор, но это важно) новое представление о человеке. О его возможностях. О его природе. О горизонте его поступков и намерений. О богатстве связей с миром. Ну, не знаю, о чем еще – о многом. Очень о многом. Вот последняя цитата из Кабакова: «Аплодирующая, пританцовывающая толпа в этот вечер на Васильевском спуске была разительно непохожа на нашу привычную. Удручающая серьезность, политическая непримиримость, безнадежная озабоченность – всего этого словно не бывало. И ведь не элита, не «новые буржуа» в основном смотрели на сцену – думаю, большей частью здесь были приезжие». Смотрите, «пританцовывающая толпа», которую сейчас через 20 лет оскорбленные русские писатели уже в открытую называют быдлом (например, в передачах «Эха Москвы») – тогда, в 91-м, воспринимается как знак надежды. Надежды на что? На политическое примирение, конечно. Нетрудно заметить, из контекста, что политические симпатии газеты и автора, скорее, на стороне Горбачева, на стороне его мимолетной эпохи, чем на стороне эпохи новой, прорастающей из этой противоречивой реальности.
Но Кабаков ошибается. Иная, новая система символов и знаков, новое представление о том, как можно жить – окончательно добило систему вместе с последним ее партийным иерархом.
Листая этот номер «Московских новостей» (воскресный), я не раз и не два наталкивался на этот новый язык, незаметно разрушающий старую жизнь. На новые значения слов. И на новые слова, которых раньше не было. Вот крошечная заметочка: «Пять обменных контор открыло на этой неделе межбанковское объединение «Менатеп». Теперь советским гражданам стало проще обменять рубли на доллары, а иностранцам – произвести обратную операцию». Называется заметочка «Валюту обменяет «Менатеп». Или вот еще, подзаголовок репортажа Колесникова и Губарева: «Будто сам собой возник в Москве насыщенный, сражающийся за покупателя книжный рынок». Речь идет о частных продавцах, заполнивших своими лотками подземные переходы, и пустые продовольственные гастрономы, и отменившие книжный дефицит как факт. Книжный рынок. Возник. Сам собой… Все значения – абсолютно новые.
И в очередной раз я с грустью подумал о том, что руки не доходят, чтобы описать, собрать, проанализировать этот могучий процесс, описать в деталях, как это происходило – смена языка, смена наших цивилизационных норм, наших привычек, нашего образа жизни. Можно книгу написать, фильм сделать. Можно просто собрать коллекцию газетных вырезок. Но никто этого не делает. А надо. Иначе мы никогда так ничего и не поймем.
Борис Минаев

Родился в 1959 году. Журналист, писатель. Работал в «Комсомольской правде», «Огоньке», с 2008 года – в журнале «Медведь». Автор книг прозы «Детство Левы», «Гений дзюдо», «Психолог», биографии Б.Н. Ельцина в серии «ЖЗЛ» (2010).